Дмитрий ГНАТЮК: «Тост наш за Родину, тост наш за Сталина, выпьем и снова нальем!» — спел я и весь зал за мной подхватил. Мне, с утра не евшему, Сталин сказал: «Садыс, пакушай» — и я сел. Пирожочек взял, откусил, а проглотить не могу. От испуга...»


Охарактеризовать моего собеседника можно одним словом — эпоха: мне кажется, о человеке, чей уникальный певческий дар и невероятной красоты голос ценили все советские лидеры, от Сталина до Горбачева, этим сказано все и сразу. Кстати, о любом из них у Дмитрия Гнатюка можно спокойно спрашивать: еще будучи студентом Киевской консерватории, он пел в Кремле на 70-летии Иосифа Виссарионовича и унес оттуда пакет с закуской и четыре подаренные бутылки любимой сталинской «Хванчкары», Никита Сергеевич просил его «Пісню про рушник» на бис исполнять, а Леонид Ильич так, говорят, любил-обожал, что концерт без его участия и вовсе концертом не считал. В артистической среде до сих пор то ли байка, а то ли быль ходит: собирался однажды Брежнев на важное мероприятие, очередную какую-то партийную годовщину, и осведомился, кто по окончании официальной части выступать будет. Генсеку фамилии начали называть, он слушал-слушал да и спросил: «А Дмитрий Михайлович где?». Ответственные за организацию руками развели: мол, нету любимца вашего, очень далеко, во Владивостоке он гастролирует и приехать в столицу никак не успевает. «Что значит «не успевает»? — возмутился Леонид Ильич, — найти и доставить!».
По приказу Самого артиста во Владивостоке таки отыскали, сняли в срочном порядке с гастролей и в Москву отправили, а чтобы аккурат на концерт успел, кислородную маску надели и в сверхзвуковой истребитель «запаковали»...
Впрочем, что уже о советских вождях говорить, если даже самые натуральные, африканские, в буквальном смысле слова вожди, к таланту украинца равнодушными не оставались — маэстро до сих пор вспоминает с улыбкой, как когда-то, будучи на гастролях в Африке, отцом темнокожего ребенка едва не стал.
«Пели мы с Георгом Отсом и Людмилой Зыкиной для вождя племени туарегов, — рассказывает Гнатюк, — и тому так украинские песни в моем исполнении понравились, что отблагодарить по высшему захотел разряду — взять в подарок... ребенка от своей любимой жены предложил. Я в ужасе был: ну как так — разве можно детей дарить, как щенков или вещь какую-то? — а сопровождающие из-за спины шепчут: «Соглашайся, иначе нам всем тут несдобровать — как пить дать, прикончат эти дикари и тебя, и всю делегацию».
Показали мне, в общем, мальчишку, годика три — хорошенького такого, как ангелок, только черненького: стоит, перепуганный, к матери жмется, а у вождя гарем огромный: жены-красавицы, детей куча... «Это ж скольким еще певцам раздаривать будет», — подумал я. Соображать что-то надо было мгновенно, а ведь и отказаться нельзя, поскольку обида это смертельная, и брать пацана — абсурд. «Не могу, — покачал головой, — сейчас увезти: мне еще, знаете, сколько концертов отработать здесь надо? Чего ребенку в песках мучиться? Вот отбуду свои гастроли — и на обратном пути, так и быть, захвачу: хороший сынишка, славный...».
Естественно, на обратном пути к туарегам прославленный баритон не заезжал — сразу в Советский Союз вернулся. Дома жене обо всем рассказал, вместе над ситуацией посмеялись, и тут звонок: «Алло, Дмитрий Михайлович? К вам тут сын из Африки едет, встречайте тогда-то и там-то». Сначала Гнатюк и супруга его не поверили, потом перепугались, а затем смирились и рассуждать стали, как ребенка по-нашему, по-понятному, назовут, представили, как по Крещатику гулять поведут, как будут украинскому языку обучать, растить, воспитывать... Оказалось, звонок — просто розыгрыш: впечатлениями от поездки по Африке артист имел неосторожность с коллегами поделиться, и те сговорились и решили певца подколоть: мол, бросил, бессовестный, сына в краю далеком, а он тебя все равно нашел: встречай, папаша!..
Таких историй — интересных, забавных и захватывающих — в жизни Дмитрия Михайловича было немало, но и без трагедий не обошлось: погиб в чекистских застенках мечтавший стать моряком красавец-брат, навсегда оказалась отрезанной от семьи вышедшая еще до войны замуж за канадского украинца сестра, погибли или получили увечья на фронте почти все одногодки-друзья — поколение 25-го года: стоит об этом вспомнить — и на глазах у Гнатюка выступают слезы.
Нам, сегодняшним, трудно, а то и вовсе невозможно представить, как это — знать, в какой на самом деле стране ты живешь, и для тех, кто именно такой ее сделал, петь, улыбаться, жать руку, за здоровье их пить, комплименты выслушивать, награды и почетные звания от них принимать — и все время чувствовать себя так, будто на пороховой бочке сидишь, помнить, что в любой момент из кумира во врага народа можешь ты превратиться, и с тобой, ничтоже сумняшеся, точно так же поступят, как когда-то с твоим родным братом, и плевать им, что ты — народный артист, а он был простым студентом. Если захотят, всех уравняют — не зря ведь равенство и братство так горячо проповедуют...
«СПАСЛО ТО, ЧТО НА МНЕ СЕМЬ УБИТЫХ ЛЕЖАЛО, И КОГДА ТРУПЫ РАЗГРЕБАЛИ, КТО-ТО ЗАКРИЧАЛ: «ТУТ ЖИВОЙ ОДИН ЕСТЬ!»
— Дмитрий Михайлович, я рад, что снова, в который уже раз, с гордостью Украины встречаюсь, но родились вы, насколько я знаю, в Румынии...
— Ну да — тогда это румынская была территория (улыбается).
— Хорошо румынским владеете?
— Владел, а когда студентом Киевской консерватории был, так получилось, что у меня книжечку Эминеску нашли. Ну, думал, читать буду, чтобы язык не забыть (он очень красивый, на итальянский похож) — под газетой в тумбочке своей спрятал, и обнаружили, конечно... Все! — Гнатюк иностранную литературу читает... Такой подняли шум — даже комсомол разбирался: мол, как не стыдно, советская власть вам возможность учиться дала, а вы иностранщиной увлекаетесь?! Я: «Какая же это иностранщина? — я там родился» (смеется). Словом, если бы не Рыльский и Паторжинский, меня бы из консерватории выгнали.

— Сейчас по-румынски сказать что-нибудь можете?
— Очень мало — знания эти будто отрезал: опасно было. Меня и за границу бы не пускали, а так все нормально было: я пел — и людям, и себе в радость, ничем другим не занимался, и, слава Богу, до этих дней дожил.
— Почти все ваше поколение Великая Отечественная война уничтожила, а вы ее помните?
— (Удивленно). Я?! — ну я же участие в ней принимал. Дело в том, что в 40-м году девять классов средней школы окончил, а потом на учительские курсы меня взяли. Три месяца там занимался, затем школу ремонтировал, причем не одну, а еще и соседнюю, в другом селе. Работы много было, парни мы молодые, я аж горел, так за все переживал, — в общем, хорошо мы трудились, дисциплинированно, и меня учителем оставили, а многих коллег на войну призвали. В школу однажды прихожу, а навстречу приятель идет — хороший парень, мы с ним дружили — без руки: так больно стало! А второй без ноги вернулся, и я не выдержал, в военкомат пошел: «Забирайте меня в армию!» — попросил, и тут же на фронт отправили.
— Куда?
— Под Польшу: там, помню, в бомбежку попали — ужас! Почти всех выбило...
— Люди у вас на глазах гибли?
— Ну, я упал, и спасло меня то, что на мне семь убитых лежало.
— Ничего себе!
— Да, и когда трупы разгребали, кто-то закричал: «Тут живой один есть!». Вытащили меня, контуженного, в госпиталь доставили — я там два с половиной месяца, почти три даже, пробыл, а потом нас в вагоны — и ночью куда-то повезли. Куда — не сказали, мы думали, что на фронт, аж смотрю — через приоткрытую дверь табличка видна: «Волга». «Хлопцы, — воскликнул, — мы в тыл едем!»: такая радость была! Привезли нас под Нижний Тагил...

— ...на Урал...
— ...да, туда, где Нижняя Салда. Она сталь, электричество давала — все то, что военной промышленности необходимо, а в Нижнем Тагиле танковый завод находился, из Украины перевезенный, и вот в том краю у меня голос открылся — после контузии, представляете?..
— Ну еще бы — семь трупов на вас полежало!
— (Улыбается). Мутация голоса произошла: сильнейшее потрясение, страшные взрывы и эта контузия поспособствовали тому, что запел. К музыке, если честно, меня тянуло всегда, я ноты читал, партитуру, поэтому хор там организовал — 500 человек (мог и больше набрать — просто желающие все не помещались). Хор получился хороший: в выходные мы пели, в будни работали, поблажек никаких не было. Постепенно о нас узнали, и по субботам и воскресеньям мы начали по Свердловской области ездить и как известные артисты выступать.
«НЕ НАДО МНЕ ТВОИХ ДЕНЕГ, — ЦЫГАНКА СКАЗАЛА. — ТЫ ЗНАМЕНИТЫМ СТАНЕШЬ»
— В 45-м году цыганка, читал, напророчила, что большим артистом вы станете, но вы якобы ей не поверили. «Тю, дурна! — сказали, — ну шо ти мелеш?»...
— (Смеется). Война окончилась, и 9 мая мы уже победный давали концерт, а потом столы накрыли, нас пригласили, мы немного выпили, закусили, и подходит ко мне Алексеенко, который руководителем танкового КБ здесь, в Украине, был, и говорит: «Дмитрий, подбери-ка парней талантливых, и мы вас демобилизуем, чтобы учиться ехали».
— Вот государство о будущем культуры своей заботилось! — война же только-только отгромыхала...
— Удивительно, да? Я 12 человек отобрал, и уже 16 июня нас демобилизовали, и мы в Украину отправились — радость была колоссальная!
Приехал я в Киев, которого абсолютно не знал, на вокзале вышел, до бульвара Шевченко дошел и не понимаю, куда же идти: направо или налево. Пойду, думаю, направо, и до Бессарабки так дошагал: Крещатик весь искореженный был, битые кирпичи повсюду валялись... До филармонии дошел, хотя не знал тогда, что это за здание, и смотрю: Владимирская горка! Красиво так, аж сердце защемило, — я туда! Бегу-бегу, а там альтаночка: остановился возле нее, глянул на Днепр — и сердце сильнее забилось...
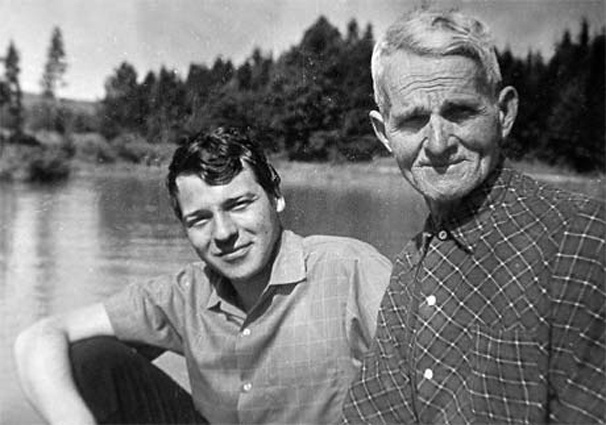
— Красота!
— Кручи, река могучая — все это такое впечатление на меня произвело, что Киев на всю оставшуюся жизнь полюбил. В той альтаночке четыре ночи я ночевал (смеется) — и экзамены сдавал в консерваторию. Потом, слава Богу, студентом стал, мне общежитие дали, но жить было не на что: до начала учебного года домой должен был поехать, чтобы хоть какую-то копейку где-нибудь заработать. Выхожу в Черновцах из вагона — и тут цыганка: «Дай погадаю!». — «Что там, — ей возразил, — гадать? Я, как собака, голодный: есть нечего, не то что денег тебе заплатить», а она: «Не надо мне твоих денег — ты знаменитым станешь». Петь я уже начал, но она-то об этом не знала... Посмеялся, сказал: «Ну, дай Бог...
— ...хотя все равно врешь, да?..
— ...(кивает) твои слова да Богу в уши», а потом в Киев меня вызвали, потому что студент уже, а подевался куда-то, и я уехал.
«БРАТА МОЕГО ЧЕКИСТЫ СТРАШНО ПЫТАЛИ И, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТРЕЛЯТЬ, ПОЗВОНОЧНИК ПЕРЕЛОМАЛИ... ГДЕ ИВАН ПОХОРОНЕН, НИКТО НЕ ЗНАЕТ, А МНЕ В НКВД ТАК ПАРУ РАЗ ПО МОРДАХАМ ВРЕЗАЛИ, ЧТО ЧУТЬ СОЗНАНИЕ НЕ ПОТЕРЯЛ. РАБОТАТЬ НА НИХ ПРЕДЛОЖИЛИ, НО Я ОТКАЗАЛСЯ»
— У вас большая семья была, а что со старшим братом Иваном случилось?
— Ой, это, конечно, такая трагедия... В 40-м году он в Высшей морской школе учился...
— ...советской?..
— ...нет, румынской — в Констанце, и тут Буковину к советской Украине присоединили. На каникулы он приехал, еще когда границы не было: перешел ее, месяц дома побыл — и пора возвращаться. Я его на станцию проводил, мы расстались и больше не виделись. На границе, которую уже обустроили, брата остановили, сказали: «Вы пропуск должны взять, в Черновцы надо вернуться» — он в штаб, или как оно тогда называлось, отправился, и его арестовали. Умер Иван в страшных муках, причем мы ничего об этом не знали — лишь пять лет назад все открылось.

— Информацию в архивах нашли?
— Случайно знакомого из нашего села встретил и спросил: «Василий, ты где работаешь?». Он ответил: «В архиве», и это очень меня удивило — будто нарочно человек был мне послан, чтобы о брате что-то узнал. А мама ведь чувствовала, что Иван погиб: когда в Черновцах бывала, к той тюрьме приходила (плачет), на колени падала и молилась... И вот пять лет назад этот Василий свидетельства раскопал: перед тем, как брат дышать перестал, чекисты его страшно пытали, и что скончался он именно в тех застенках. Он очень талантливый был! — вот как у меня певческий талант, так у него способности к языкам были: все ведущие европейские языки знал! Молил: «Не мучайте! Вы же не понимаете меня, переводчика дайте...».
— А чего от него добивались — чтобы шпионом себя признал?
— Да. Он переводчика с английского, французского, румынского, чтобы объясниться, просил, а ему: «Ничего, мы тебя русскому научим...». Издевались как хотели, а потом расстреляли.
— Это правда, что и позвоночник переломали?
— Правда. Где похоронен Иван, никто не знает — огромная трагедия (плачет) для нас всех, потому что такой парень красивый, талантливый, умный — и ни за что погиб...
— Смотрите, какой интеллигентный город был Черновцы: простой студент столько языков знал!
— Все молодые люди, жившие там, языками владели, но у Ивана особый талант был.
— Вы когда-то рассказывали мне, что и вас в НКВД вызывали и били...
— ...ну, били, конечно.
— Сильно?
— Не так чтобы очень, но пару раз так по мордахам врезали, что чуть сознание не потерял. Потом работать на них предложили, но я отказался: «Нет, только учиться буду».
— Вы еще студентом были?
— Да. «Я, — сказал, — Родину свою люблю, и если увижу, что кто-то ей враг, вам сообщу, но агентом становиться не собираюсь».
— Страшно было, когда били?
— Естественно (улыбается) — это же НКВД, Владимирская, 33. Я очень хорошо все помню, но, слава Богу, молодой был, так остро, как сейчас, не чувствовал: побили сильно, а вышел — и будто не было ничего. Больше, кстати, никто меня никогда не бил — это первый и последний раз было.
«И ЕДЫ НЕ БЫЛО, И КУПИТЬ ЕЕ БЫЛО НЕ НА ЧТО: ТО КАКОЙ-ТО ПИРОЖОК ПЕРЕХВАТЫВАЛ, ТО ШЕЛУХУ КАРТОФЕЛЬНУЮ ВАРИЛИ, ТО СУП — НЕИЗВЕСТНО ИЗ ЧЕГО»
— Вы у великого певца Ивана Паторжинского учились...
— ...у величайшего!..
— ...и, думаю, именно благодаря ему со Сталиным встретились...
— (Смеется). Нет, не ему. Иван Сергеевич категорически против того был, чтобы кто-то из его студентов в хоре работал, ненавидел это! Негодовал: «У тебя голос красивый, ты должен сберечь его и школу не потерять, а ты в хор хочешь?». Совмещать это невозможно было, и он, в принципе, прав был. Он вообще интересным был человеком, во-первых, а во-вторых, когда на ноги стал и уважение завоевал, за это какой-то отцовской добротой людям платил. Когда жена его (Снага ее фамилия, очень видная была женщина!) к нам в класс приходила, она понимала, что мы там голодные сидим, поэтому по дороге пирожок покупала и в руку кому-то совала...
— Как же вы пели — голодные?
— Не знаю, но голод был настоящий!
— Неужели совсем еды не было?
— И не было, и купить было не на что — студенты же.
— Ну хорошо, а что за день вы съедали?
— То какой-то пирожок перехватывал, то шелуху картофельную варили, то суп — неизвестно из чего (смеется).
— И такие голоса были!
— Да, очень красивые, будто природа компенсировать то, что война забрала, хотела. Какого ни возьми певца — прекрасный! Был вот такой Червонюк — замечательный бас и человек хороший, товарищ мой, а потом еще и кум, за что от органов мне досталось: детей крестить было нельзя...

— Итак, день рождения Сталина, 70-летие, юбилей...
— Было дело... (Улыбается).
— Сталин — это «наше все», а рядом с ним еще и Мао Цзэдун сидит, и Дмитрий Михайлович Гнатюк, тогда еще просто Дмитрий, поет — волновались вы сильно?
— Не то слово! — даже объяснить, что чувствовал, не могу. Такая дрожь била, но сперва о прекрасном человеке хочу сказать — руководителе народного хора...
— ...Веревке?
— Да. Григорий Гурьевич депутатом от Киевской области был и часто меня приглашал, чтобы куда-то с ним съездил и две-три-четыре песни спел...
— Деньжата какие-то за это давал?
— Да поесть хотя бы, а в тот раз я сказал ему (в Фастове как раз с избирателями встреча была): «Вы знаете, я бы с большим удовольствием выступил, но посмотрите: негде заплаты ставить, совсем обносился...». Он посоветовал: «Ты, Дмитрий, как всегда, поступай: на сцену выходишь, улыбаешься, задушевно, как умеешь, поешь, и задком-задком за кулисы». Ну, я так и сделал, а назавтра он мне деньги приносит — в консерваторию, которая на Львовской площади тогда находилась, где сейчас институт театральный, — дает и говорит: «Купи костюм, рубашку белую, туфли — все, что нужно».
Мне было ужасно стыдно те деньги брать, но положение было безвыходное. Напротив консерватории комиссионный магазин как раз находился: зашел я туда, смотрю — костюм темно-зеленого цвета висит, и так он мне понравился! «Боже, — думаю — хоть бы подошел!». Прошу продавщицу: «Можно примерить?». Она посмотрела на меня, голодранца: «А деньги у тебя есть?». — «Есть!» — показал. «Меряй!». Как на меня сшит! Купил я костюм, рубашку, туфли — и, так сказать, артистом стал: будто специально мне кто-то одежду пошил.

— Это вам откуда-то свыше прислали...
— (Смеется). Солдаты или офицеры, наверное, с войны привезли и в комиссионку сдали. Честно говоря, я очень счастлив был — назавтра надел костюм, к Веревке, чтобы поблагодарить, пришел, а он: «Знаешь, а ты неплохо выглядишь. Мы завтра в Москву едем — поехали с нами!». Я: «Поехали!» — ответить «нет» просто не мог...
— ...а зачем, он не сказал?
— В том-то и дело, что нет. Приезжаем мы в Москву, и я узнаю, что в Большом театре выступать будем, на 70-летии Сталина. Смотрим в зал, а там с правой стороны Сталин и Мао Цзэдун сидят!
«У КАВО УЧИШСЯ?» — СПРОСИЛ СТАЛИН. «У ПАТОРЖИНСКОГО». — «СЛАВНЫЙ ПЭВЭЦ! ПАКЛОН ЕМУ ПЭРЭДАЙ»
— Это в каком году, Дмитрий Михайлович, было?
— В 49-м. Я какую-то песенку запевал...
— Что именно, не помните?
— Нет, и вот после концерта к Веревке какой-то чиновник из Министерства культуры подходит: «Кто из ваших артистов пару украинских песен спеть может? — завтра еще один будет концерт». — «Да вот тут студент консерватории есть». Подходят ко мне: «В два часа мы вас забираем».
На следующий день сел я в машину, еду... и вижу вдруг — в Кремль заезжаем! Понимаю уже, что выступать перед Сталиным нужно, а я даже еще не обедал — так волновался: смогу ли выдержать? Привели меня к большим дверям — в Георгиевский зал, обыскали предварительно и велели: «Стойте здесь, пока не скажут, что ваш выход. Отсюда — никуда!». По-моему, больше двух часов простоял...

— ...не евши?
— С самого утра (смеется), и тут команда, наконец, поступает: «Приготовьтесь. Сейчас пять шагов вперед, в трех шагах от вас аккомпаниатор сидит, он уже играет, вы должны «Дивлюсь я на небо» петь». Я вышел... Как шел, не помню: словно под наркозом, был — полегчало, уже когда запел (поет): «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...».
— Как красиво!
— И вы знаете, все затихло: наверное, хорошо пел, а потом сам Сталин поднимается и говорит: «Гдэ работаеш?». — «Я студент консерватории». — «У каво учишся?». — «У Ивана Сергеевича Паторжинского». — «Славный пэвэц — паклон ему пэрэдай! Что ты ещо нам спаеш?», а я песню выучил, которую нигде еще не исполнял (напевает):
Если на празднике с нами
встречаются
Несколько старых друзей,
Все, что нам дорого, припоминается,
Песня звучит веселей.
Ну и дальше:
Тост наш за Родину,
тост наш за Сталина,
Выпьем и снова нальем!
Весь зал за мной подхватил! — у Сталина ведь юбилей...
— Триумф получился!
— Когда закончил, упал бы там, честно, если бы не поддержали (плачет) — такое состояние было. Сталин сказал: «Садыс, пакушай», и я сел. Там такие знаменитые были певцы, как Лемешев, Козловский, красавица и симпатия Сталина...
— ...Давыдова?..
— ...да, бас один знаменитый — фамилии из памяти повылетали... Я пирожочек взял, откусил, а проглотить не могу. От испуга...

— В лицо Сталина вы всматривались, разглядеть его поближе хотели?
— Не до того было, хотя, конечно же, пел для него и глаза мои к нему устремлены были. Мне понравилось, что он чуть-чуть улыбнулся: это более-менее меня успокоило.
— Вы же высокий, а он небольшого был роста...
— Да, низенький, и, между прочим, сказать, что по нему было видно, какой он жестокий и грозный, не могу — нормальный человек.
Когда Сталин умер, к власти Хрущев пришел, который...
— ...благоволил к вам, насколько я знаю...
— ...да, с теплотой относился. Помню, какое-то совещание по вопросам сельского хозяйства шло, главной темой там кукуруза была, и я несколько песен спел, — красивых таких... Публика меня горячо принимала, а Хрущев подошел и сказал: «Дмитрий народного артиста, когда на юбилее Сталина пел, не получил, поэтому мы ему звание народного артиста СССР сейчас присваиваем».
— Это вообще уникальный случай...
— ...согласен...
— ...и я поясню, почему. На тот момент вы заслуженным артистом УССР были, следующая ступенька — народный артист УССР, но уже через два года после получения первого звания вы народным артистом Советского Союза стали — карьера блестящая!
— (Смеется). А сколько за эту карьеру концертов отработать пришлось? Знаете, когда за границу я выезжать начал, такие контракты подписывал — от перегрузки с ума можно было сойти! Только, мне кажется, потому, что в селе вырос и босиком по холодной росе ходил, закалился и смог ее выдержать. Ну, например, в Австралию и Новую Зеландию поехал, контракт подписав, что за два месяца 57 концертов отработать должен — сольных, в трех отделениях!
— Без фонограммы, я уточню...
— (Смеется). Тогда ее просто не было! Благодаря технике пения я справлялся: у меня mezza voce было прекрасное и piano — forte, может быть, брал не очень: 57 концертов все-таки...
— В СССР талантливых певцов было немало — школа хорошая, но вы все равно выделялись, и, честно скажу: я вас очень любил, еще маленьким на ваши концерты и оперные спектакли ходил. У вас безупречная техника вокала, красивейший голос и тембр, который ни с чьим не спутаешь, а диапазон какой?
— Рабочие две октавы, а mezzа voce я и «до» брал, и «ля» внизу...
— А как тихо вы могли петь!
— Да, piano, pianissimo — это моя гордость! Голос я сохранил, но в таком возрасте организм абсолютно меняется, той краски нет. Иногда свои записи слушаю, очень песню «Вівці мої, вівці» люблю: там я беру «до»! (Поет): «Ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду, ду-дуууууууу...». Единственная песня, где эту ноту я брал: никто больше из баритонов не мог.
«ПОСЛЕ ТОГО КАК ИВАН ПРОПАЛ, МАМА, КОГДА В ЧЕРНОВЦАХ БЫВАЛА, ПАДАЛА У ТЮРЬМЫ НА КОЛЕНИ И ГОСПОДА ПРОСИЛА, ЧТОБЫ ДУШЕНЬКУ ЕГО СХОРОНИЛ»
— 50 лет жизни вы Киевскому оперному театру отдали: и солистом были, и директором, и худруком, и главным режиссером, множество оперных партий перепели, весь, по сути, классический репертуар — и итальянский, и русский, и украинский...
— ...и французский...
— ...а любимая ваша партия какая?
— Больше всего я Остапа в «Тарасе Бульбе» Лысенко любил — сопереживал ему, когда он над трупом Андрия поет: от этого с ума можно было сойти!
Ну а любимый мой композитор — Верди: гениальный он, плодовитый — столько опер написал, и их нелегко петь, потому что все они для выдающихся голосов. Верди не может исполнять...
— ...лишь бы кто...
— ...да, потому что обязательно mezzа voce нужно, а piano — где-то там, его чуть-чуть. Вся вокальная партитура Верди мелодикой насыщена, и равнодушным к нему быть невозможно. Я оперу «Риголетто» очень люблю, хотя, когда в образ героя своего входил, она для меня чересчур сложной была. Сейчас Риголетто обычным человеком изображают, а ведь это шут, кривой, горбатый — он сам о себе так говорит!
— И это к тому же сыграть надо — не только спеть...
— Где бы я ни выступал, у нас или за рубежом, все отмечали, что на первом месте у меня актерская игра, а потом уже голос.
— В пору вашего вокального расцвета в Киеве много прекрасных композиторов было, песни писавших: Платон Майборода, Александр Билаш, Игорь Шамо... Песенный репертуар у вас был выдающийся — я до сих пор и «Стежину», и «Ясени», и «Марічку», и «Чорнобривці», и «Черемшину» помню...
— ...даже я столько не назову (смеется)...
— ...а еще ведь «Два кольори» и «Пісню про рушник» не упомянул — это вообще классика! Самая любимая ваша песня какая?
— Трудно сказать — кстати, песни, которые пел я, не все исполняли.
— Почему?
— Потому что без mezzа voce и piano браться за них нельзя, а не у всех, хоть и голоса красивые, это было, так что тут еще и природа большую роль играет: одним все можно петь, другим — лишь какие-то определенные вещи. Мне вот в «Cевильском цирюльнике» Россини петь очень нравилось — даже если устал или неважно себя чувствовал, тут же в этот образ вживался, когда вступление своей арии слышал.
— Настоящий артист!
— И все как рукой снимало!
Песни... (Задумчиво). «Пісня про рушник» до слез меня пронимала — когда умерла мама, не мог ее петь.
— При жизни она ее слышала?
— Да.
— Плакала?
— Не она — я (плачет). Мама очень тяжелую жизнь прожила: шестеро нас в семье было... Она настоящей была матерью — очень нас всех любила и за каждого переживала. После того как Иван пропал, она, когда в Черновцах бывала, падала у той тюрьмы на колени и Господа просила, чтобы душеньку его схоронил: чувствовала, что там он погиб...
— Проклятое государство какое-то было, правда? За что, почему столько жизней забрало?
— Вы знаете, я, честно говоря, думал уже, что не выдержу, какое-то антипартийное отношение у меня появилось. Вокруг уверяли, что «партия — наш рулевой», а я по-своему рассудил: партия нами управляет, но жить мы для своего народа должны. Я прекрасные песни пел, по всем их пронес континентам...
— ...а «Два кольори» вообще целая судьба, биография, в песне уместившаяся!
— Да, а я еще «Вівці мої, вівці» вам называл — она для меня с человеком одним связана (фамилию называть не буду). Я там слова чуть-чуть изменил, петь стал: «Вівці мої, вівці, вівці та отари...», а раньше же Крушельницкая пела: «Вівці та й барани...», и вот один наш певец из Львова (как звали, не скажу, потому что очень его уважал — хороший был баритон) вышел эту песню в Октябрьском дворце исполнять, где в первом ряду руководство наше во главе со Щербицким сидело, и выдал: «Вівці мої, вівці, вівці та й барани...» — и на Политбюро показал! (Хохочет). Те: «Ах ты сволочь! Убрать его!», так что было ему с вівцями...
«ПО ПРОСЬБЕ ХРУЩЕВА «ПІСНЮ ПРО РУШНИК» ПО ДВА-ТРИ РАЗА Я ПЕЛ, А БРЕЖНЕВ «ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ» ОБОЖАЛ — ТОЖЕ ПЛАКАЛ!»
— Никита Сергеевич Хрущев, повторюсь, ваши песни очень любил, а «Пісню про рушник» — особенно: когда слышал, я знаю, всегда плакал...
— Да, это так: по его просьбе я по два-три раза ее пел плюс когда после концерта на ужин приглашали — посидеть, поговорить... А Брежнев «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» обожал — тоже плакал!
— Видимо, вспоминал о чем-то...
— Скорее всего, о любви (улыбается).
— Хрущев интересной был личностью?
— Очень! — всегда все угадывал.
— Интуиция была развита?
— Да, а еще к Владимиру Васильевичу Щербицкому с особой теплотой я относился — много добра он мне сделал, выручал часто...
|
|
— Мудрый был человек?
— Безусловно. Однажды на съезде каком-то я спел: «Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу» — и большие неприятности нажил.
— Почему?
— Много отзывов было: мол, Гнатюк бандеровскую песню поет, и вот Щербицкий меня вызывает: «Как же так? Что ты там натворил? Ну-ка спой мне» — и я спел.
— В кабинете?
— Ну да — акустика там хорошая, все собрались под дверью послушать, а дело, как с вівцями й баранами, в одном слове было: Украина-то в песне упомянута, а какая? Советская, радянська, но это не уточнялось. Владимир Васильевич послушал, охапку писем-доносов взял, вот так сгреб и со стола скинул: «Пой!». Понимаете, любил человек Украину, хотя коммунистом, первым секретарем ЦК Компартии республики был!
— Леонид Ильич Брежнев тоже ведь от украинских песен млел...
— О!
— Сентиментальный был?
— Очень!
— Просто так, за жизнь, вы с ним разговаривали?
— Я, Дмитрий, общался с ним, когда он еще относительно молодым был, но прежде чем рассказать об этом, другую историю вспомню. Поехал я как-то в составе делегации советских артистов в Африку — Георг Отс еще с нами был, эстонский певец знаменитый, и Люда Зыкина: по просьбе Никиты Сергеевича Хрущева мы в странах Северной Африки выступали.
— Славное трио!
— Тем не менее условий для концертов не было никаких: ни сцены, вообще ничего. Бочки, на них доски, микрофоны отсутствовали, но вы знаете, как ни странно, звук был хороший — от песка отражался. Мы каждый день пели, а еще коньячку добавляли французского, потому что врач советовал — следил, чтобы ничем не заболели: нечисти-то там всякой много... В Африке три месяца провели, и когда домой я вернулся, выйдя из самолета, упал на снег родной и целовать его стал (смеется).
— А что же Брежнев?
— Он еще Генеральным секретарем ЦК КПСС не был...
— ...председателем Президиума Верховного Совета СССР только...
— ...да, и как раз перед поездкой той в Африку подошел ко мне на одном банкете с женой и сказал: «Дима, ну потанцуй с Викторией Петровной — мне кое-какие дела нужно доделать». Ну, танцую я, а вокруг красивых молодых девчат столько!
— Дивлюсь на годинник та й думку гадаю...
— ...чому я не сокіл, чому не літаю? (Хохочет). Он, слава Богу, пришел — часа в три ночи, в «келью» какую-то пригласил, там стол накрыт... Я говорю: «Но у меня в семь утра самолет!». — «Ничего, задержим». Дал распоряжение из гостиницы вещи мои забрать, часов в пять в машину свою меня усадил — и в аэропорт я уехал.
— Видите, а могли ведь жену у него отбить!
— Ну да (хохочет).
«ПРИВЕЗ Я ЭТИ ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ, А НА ТАМОЖНЕ МНЕ ПРИКУРИТЬ ДАЛИ: «КАК ВЫ МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ? ВАС ЖЕ МОГЛИ УБИТЬ, ПОПРОСТУ РУКУ ОТРЕЗАТЬ...»
— Фурцева к вам как относилась?
— Ой, замечательно! Я ей за то благодарен, что однажды на совещании, где многие деятели искусства присутствовали, сказала: «Давайте Дмитрия Михайловича Гнатюка поздравим — у него 57 миллионов пластинок вышло!».
— Ничего себе!
— Вы представляете? А дисков сколько! Хоть бы копейку какую за это получить...
— Цифра невероятная!
— Ну так в одном Союзе столько выходило, а еще же за рубежом... Раньше у меня государственные льготы были: за квартиру, за воду, за свет не платил, а пять месяцев назад сказали: «Платите!» (смеется). Думаю: «Господи, или я мало для страны своей сделал? — столько ей валюты принес!». Помню, в Австралию и Новую Зеландию поехал...
— ...где 57 концертов дали...
— ...полмиллиона долларов для Родины заработал, и главное, валюты тогда в Госконцерте не было, так они попросили, чтобы лично привез. Ну, там уже этим посольство советское занималось: купили мне кейс...
— И вы сами такую сумму везли?
— Да, полмиллиона в руках держал, а дома 50 тысяч долларов должен был получить.
— Надо было там и оставаться — с кейсом...
— Ну нет, этого сделать не мог: здесь я счастлив, а там давно бы уже без Украины помер.
— Вам, значит, 50 тысяч пообещали...
— Да, а я же знал, что один концерт по контракту 12 тысяч долларов стоит... В общем, привез эти деньги, а на таможне мне так прикурить дали: «Как вы могли согласиться? Вас же могли убить, попросту руку отрезать...». Я: «Но не отрезали ведь, я доехал! Вот деньги, я тут!». Когда в Госконцерт валюту доставил, там считать взялись и мне отсчитывать: до 20 тысяч дошли — и все. Спрашиваю: «А еще 30?». — «Не положено». — «А 57 концертов за два месяца отработать положено?».
— И не дали?
— Нет (улыбается): я в суд подал, но только то отсудил, что месячная норма — пять концертов или спектаклей. Тысячу долларов сверху получил — и бай-бай...
— За что руководитель советской Украины Петр Шелест пообещал вас своими руками убить?
— А-а-а... За то, что характеристику в театре мне не давали: типа, сволочь такая, по заграницам ездит, бандеровцам всяким поет...
— Завидовали?
— Да, особенно секретарь парторганизации, тоже певец (фамилию называть не хочу — пускай душе его на небесах будет спокойно).
— И что Шелест?
— Он сказал: «В театре характеристику тебе не дают, а я дам, но если ты, не дай Бог, за границей останешься, смотри: этими вот руками убью!» — а ручищи большие такие, впечатляющие... Я заверил его: «Не волнуйтесь, — мне оно надо? Я Украину люблю, где босиком по росе бегал, где в детстве овечек пас, — мне здесь нравится. Может, не такой уж я мудрый, но в свою землю, в свой народ и в свои песни влюблен и от этого счастлив» — все!
— С Горбачевым когда-нибудь вы общались?
— Да.
— И какое впечатление он произвел?
— Хорошее. Виделись, и не единожды, но каких-либо деловых отношений не было — просто всякий раз, когда я в концерте правительственном участвовал, он подходил, поздравлял, говорил, что ему мои песни нравятся.
(Окончание в следующем номере)

 Дочь Владислава ЛИСТЬЕВА Валерия: «Спустя три дня после гибели папы его третья жена Альбина Назимова стала переписывать на себя все его имущество. Это не дележка была, а хапанье, причем очень активное»
Дочь Владислава ЛИСТЬЕВА Валерия: «Спустя три дня после гибели папы его третья жена Альбина Назимова стала переписывать на себя все его имущество. Это не дележка была, а хапанье, причем очень активное» Владимир ВОЙНОВИЧ: «В 75-м году сотрудники КГБ меня отравили и сказали, что жизнь моя кончена»
Владимир ВОЙНОВИЧ: «В 75-м году сотрудники КГБ меня отравили и сказали, что жизнь моя кончена» Экс-повар Кремля Виктор БЕЛЯЕВ: «Повар Сталина научил меня делать малиновое парфе, рубить зелень двумя ножами и разделывать селедку без ножа»
Экс-повар Кремля Виктор БЕЛЯЕВ: «Повар Сталина научил меня делать малиновое парфе, рубить зелень двумя ножами и разделывать селедку без ножа» Дмитрий ГНАТЮК: «Тост наш за Родину, тост наш за Сталина, выпьем и снова нальем!» — спел я и весь зал за мной подхватил. Мне, с утра не евшему, Сталин сказал: «Садыс, пакушай» — и я сел. Пирожочек взял, откусил, а проглотить не могу. От испуга...»
Дмитрий ГНАТЮК: «Тост наш за Родину, тост наш за Сталина, выпьем и снова нальем!» — спел я и весь зал за мной подхватил. Мне, с утра не евшему, Сталин сказал: «Садыс, пакушай» — и я сел. Пирожочек взял, откусил, а проглотить не могу. От испуга...» Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1942 года: «Никогда не ждали мы столько бед. В Германию забирают детей»
Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1942 года: «Никогда не ждали мы столько бед. В Германию забирают детей» «Мыло» особого значения, или Почему запрет большинства сериалов «made in Russia» не лишен смысла
«Мыло» особого значения, или Почему запрет большинства сериалов «made in Russia» не лишен смысла Смеялся ли Христос?
Смеялся ли Христос? Концерт песен Александра Вертинского
Концерт песен Александра Вертинского Творческий вечер Дины Рубиной
Творческий вечер Дины Рубиной Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги